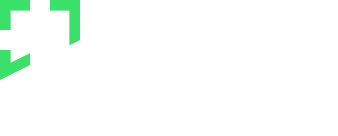В минувшее воскресенье в Словении завершился шестой этап Кубка мира по биатлону, который подвёл черту и под вторым соревновательным триместром стреляющих лыжников. Впереди стартующий через две недели в итальянском Антхольце чемпионат мира.
Но я всё-таки предлагаю вернуться в гостеприимные Поклюку и Блед, чтобы погрузиться в атмосферу биатлонных закулис. Путевые заметки!
Торжество бюрократии
У нас привыкли когда ругать, а когда и вовсе харчить отечественный бюрократизм, который, что и говорить, порой действительно ввергает в прострацию. А то и в отчаянье, заставляя цитировать Владимира Высоцкого — «Сыт я по горло, до подбородка!» с его незабвенным желанием «лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать».
Но знаете… Только между нами… В Международном союзе биатлонистов царит такой махровый бюрократический произвол, что «ни в сказке сказать, ни пером описать». Самый свежий словенский пример.
Так получилось, что я со своим ночным рейсом в Москву, а далее в Любляну оказался в Бледе раньше, чем белорусская команда, спокойно поспавшая в Рупольдинге и после завтрака столь же спокойно отправившаяся на шестой этап. «Ну, раньше и раньше», — скажете вы, скопировав мои мысли в тот момент, когда я пришёл в центр аккредитации за именной картой, что и должна была легализировать меня в «большой семье биатлона». Однако…
-- Послушай, Руслан, -- обратилась ко мне давно знакомая дама, ведущая на протяжении многих лет IBU-аккредитациями, -- ты внесён в общую командную аккредитацию.
-- Ну и прекрасно! – ещё не зная подвоха, отреагировал я.
-- Ничего, прекрасного нет, -- охладила мой энтузиазм дама. – Командная аккредитация выдаётся только на руки старшему лицу – у вас это Рыженков.
-- Послушай, -- немного ошалело стал возражать зависший между «землёй и небом» журналист, -- но ведь я – это я, и ты меня знаешь. И вот моя аккредитация – вижу её.
-- Да, она есть. Но выдам только со всеми остальными Рыженкову.
И если вы думаете, что подразумевался какой-то особенный, а-ля рыцарский, ритуал посвящения и я, когда старший тренер нашей мужской сборной приехал в центр аккредитации, опустился на колено, и только после этого мне на шею повесили заветную карту -- глубоко заблуждаетесь. Всё прошло предельно буднично. Дама взяла пачку, стала поимённо перечислять именные карточки, чем всё и ограничилось. Я забрал свою и был таков, но, к сожалению, из-за этой волокиты не сумел уже в понедельник оказаться на стадионе в Поклюке.
В чём смысл требования – загадка бюрократии. Но это ведь не единичный пример! Пожалуйста, ещё. На той же карточке аккредитации обозначены, естественно, зоны допуска. Журналистская цифра – «9», а к ней прилагается набор «буковок» -- от «А» до «F». Но если у тебя командная аккредитация, то появляются более широкие возможности в перемещении по стадиону – например, проход к вакс-кабинам, а ещё в столовую спортсменов, что, разумеется, хорошо. Но зато нет опции «9F». То есть отсутствует допуск в журналистский буфет…
-- Почему? – спросил я. – Ведь я журналист.
-- Журналист… Кто спорит? Но у тебя же есть «Y».
-- И что? Почему меня дискриминируют как журналиста? Почему я лишён возможности общаться с коллегами в единственно свободные обеденные минуты? Неужели всё из-за подозрения, будто соблазнюсь заморить червячка и там, и там?! Посмотри на меня – я уже готовлюсь к пляжному сезону!
Какого-то внятного ответа у собеседницы не нашлось, но зато меня попросили наклониться, чтобы сказать на ухо, куда я должен идти, в каком темпе и какой ширины шагами. Это было убедительно. Как и добавка: «Достал, право! Всё равно никто на эти буквы не смотрит!»
Так бюрократия разоблачила бюрократию! И вот что интересно: все эти странности, кем-то неразумно придуманные, а после дотошно соблюдаемые – наследство эпохи первого президента IBU Андерса Бессеберга. Норвежца уже пару лет нет – он в непочётной отставке, союз объявил об эволюционной модернизации, программе «26 шагов» к «биатлонному коммунизму», но бюрократический кретинизм «старого мира» по-прежнему несокрушим.
Блед – наш город!
Теперь перенесёмся в Блед. В пустынный Блед, что не является оговоркой. Так всё и было, и вот объяснения.
Обычно большой биатлон наведывается в Словению либо перед самым католическим Рождеством Христовым, что чаще всего, либо в первую декабрьскую декаду, как это случилось в 2018-м. Что, в принципе, то же время, те же парадно украшенные добрыми жёлтыми огнями ели, то же светлое предвкушение праздника. Поэтому я раньше видел Блед славно многолюдным, весёлым и праздным. С туристической толчеёй у знаменитого озера и массой развлечений -- базаров, уличной кулинарии, концертов, флэшмобов.
Но сейчас конец января, и Блед… вымер. Нет ни базаров, ни съестных палаток. Никто не зазывает попробовать глинтвейна из великолепного белого вина мальвазия, и даже белые лебеди, гордость орнитологов Бледа, куда-то эмигрировали с водной озёрной глади. Остались только утки да селезни…
В общем, было пустовато и жутковато. Ведь сегодня у Бледа есть ещё одна особенность: город стал строительной площадкой, что также несёт в себе ощущение неуютности.
Но только не днём, когда светило и даже слепило глаза солнце, и невольно всякий раз приходилось улыбаться (не без доли злорадства), узнавая новости о дождях в Минске! И, конечно, общение. С водителями автобусов, с продавцами в магазинах, с портье в апартаментах, наконец, со словенскими коллегами, которые работали в Минске на Вторых Европейских играх и оставили в нашей столице свои сердца, соответственно перенеся свои приватные симпатии и на каждого знакомого жителя Синеокой.
Так вот и Блед – наш город! Понимание возникает сразу, благо словенский язык – это самый историчный, классический из всех славянских, сохранившийся в своей кажущейся архаичности. Но нас объединяет не только лингвистика. То же уважение к своим героям, воинам-освободителям. Не секрет, что в некоторых странах Восточной Европы сейчас идёт борьба с памятниками советским воинам. В Словении всё наоборот. Летом-2016 в Любляне был открыт памятник воинам, погибшим в первую и вторую мировые войны, – «Журавли». Помните песню, что столь проникновенно исполнял Марк Бернес: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…».
И, конечно, эпос. Символ Словении Триглав — это гора с тремя вершинами, в чьей долине и находится Поклюка, изображённая на флаге и гербе страны. Но это потухший вулкан, между прочим. А раз так, то есть занятная версия: наш сказочный Змей Горыныч – сын Триглава. Ибо Горыныч – не фамилия, а отчество. Ведь любой вулкан – горящая гора, а три головы нашего змея – ещё одна идентификация. На мой взгляд, очень убедительно!
Словенцы ещё очень вежливы, для них понятия «честь» и «дружба» не являются пустым звуком. Кстати, когда я, единственный раз увидел проявление грубости, абориген, участвовавший в конфликте, не был виновен. А дело было так. В пятницу второй по счёту согласно расписанию журналистский автобус-шатл спокойно выехал из Бледа и мирно с нужной скоростью направлялся к горному серпантину, как вдруг «бум, бам, тарарам!»
Какой-то удар в боковое стекло, визг тормозов, ойканье в салоне. В последний раз подобный звук в транспортном средстве мне довелось слышать летом-2016, когда на Олимпиаде в Рио «доброжелательные бразильцы» из фавел развлекались, закидывая проезжающие автобусы с аккредитацией Игр булыжниками.
Но на этот раз хулиганов не было. Если, конечно, не считать водителя встречного автобуса с австрийскими номерами, который так вылез на чужую полосу, что произошла «стыковка» зеркалами заднего вида. Но всё обошлось лишь пересадкой в салон другого быстро подъехавшего «четырёхколёсного друга». Ибо, как сказал один коллега: «Было бы грустно пострадать в день официального банкета». Кстати, о еде.
Что едят китайцы на биатлоне?
Докладываю, со всей ответственностью: питаются они странно. При том хорошем питании, что было организовано на стадионе Поклюки, я не видел ни одного титульного уроженца Поднебесной, жующего что-нибудь ещё, кроме сэндвичей, которые они сами сооружали из хлеба, колбасы и сыра. Даже местный рис не вызывал у них интереса, не говоря уже о супах, среди которых были и кислые щи, и знаменитый гуляш. При виде же сметаны в варианте «стоит ложка» их вовсе охватывала оторопь.
Занятно, но европейцы, которые сейчас служат на благо олимпийского Китая, едва ли не переняли эту манеру питания всухомятку, ещё и показывая, что «да, и они так же». Впрочем, как понимаете, глагол «едят» в спортивной тусовке может трактоваться иначе…
Итак, китайские биатлонисты готовятся к домашним Белым играм-2022 под началом нашей Домрачевой и её супруга Бьёрндалена, хотя, наверное, корректнее было бы начать именно с норвежца. Ибо роль Дарьи в прогрессе стреляющих лыжников из Поднебесной оценивается по-разному. Кто-то видит её фигуру чисто декоративной – а-ля «звездный амбассадор», ответственный за позитивную репутацию, что хорошо понятно. Ведь никакого опыта-де у ДаДо нет, и она ранее в принципе не собиралась пробовать на вкус тренерский хлеб. Всё получилось спонтанно, исключительно вследствие мужниной воли. Более того, и на деятельность Бьёрндалена есть аналогичные скептические взгляды, хотя, учитывая, что Оле почти всю карьеру работал индивидуально, они уже не так хорошо мотивированы.
А заслугу профессионального роста китайцев больше относят на долю знаменитого олимпийского чемпиона по пулевой стрельбе Жан-Пьера Ама, чьими «молитвами» начался в своё время взлёт французского биатлона. Его ученик – экс-тренер мужской сборной Беларуси Пуаре, ещё один школяр мэтра – суперэффективный наставник XXI века Мазе, который вначале «слепил» Мартена Фуркада, а затем и Йози Бё.
И вот китайцы нашли финансовые аргументы для возвращения Ама в биатлон, да и других спецов у них хватает. В том числе в сервисном отделе, в котором трудятся норвежские «снежники»-«смежники». Так что Дарья больше пресловутый «промоушен» и красивая женщина.

Но есть и другое мнение: Домрачева играет важную роль в китайской сборной, и все тамошние барышни хотят ей подражать, занимаясь своим любимым делом -- копированием. Доказательство, в принципе, налицо, достаточно посмотреть, как начинает стрельбу стоя Тань. А начинает она с центральной мишени, как это делала всю карьеру ДаДо, так и не перешедшая на строгую последовательность.
Так что спорам о тренерской роли ДаДо – идти и идти. Вплоть до Пекина-2022. От себя добавлю, что уже в ходе ЧМ-2016 в Холменколлене не выступавшая в Норвегии Домрачева тем не менее вела заочные методические дискуссии. Так что совсем далёкой от ремесла наставника я её не считаю.
Впрочем, у меня есть своя версия резкого прогресса китайцев, которая не очень-то касается тренерских изощрений и, в принципе, лежит на поверхности. Вспомните, как все хозяева будущих Олимпиад начинают резко прогрессировать, чтобы после церемонии закрытия Игр… Ну, вы всё поняли, да?!
Где канадцы после подвигов Ванкувера-2010 (речь не только и не столько о биатлоне)? Итоги Игр-2014 в Сочи в российском исполнении до сих пор оспариваются. А «корейские биатлонисты» Фролина и Лапшин? Словно перед Пхенчханом-2018 они «болели», имея «терапевтическое исключение», а нынче стали здоровыми. Их же диагнозы перешли по наследству к китайцам…
И не только к ним. Мне очень бы хотелось услышать заявление норвежки Экхофф, что она здоровый человек и её фамилии нет в списках «терапевтических исключений». А то ведь биатлонистки, конкурирующие с ней, например, в эстафете Рупольдинга (как понимаете, не белоруски), поражались: «Она ведь не задыхается на подъёмах! Совсем не дышит».
А китайцы, кстати, в Поклюке ничем особенным не запомнились…